Беды русского языка
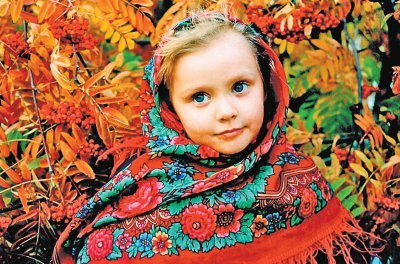 Меня, как специалиста-языковеда, часто спрашивают о том, в каком положении сейчас находится русский язык. Большинство тех, кто задает этот вопрос, ощущают, что положение ненормально, хотя не всегда могут сформулировать, в чём именно. Часто говорят, что русский язык гибнет. Так ли это?
Меня, как специалиста-языковеда, часто спрашивают о том, в каком положении сейчас находится русский язык. Большинство тех, кто задает этот вопрос, ощущают, что положение ненормально, хотя не всегда могут сформулировать, в чём именно. Часто говорят, что русский язык гибнет. Так ли это?
После катастрофы 1991 г. резко снизилось международное значение русского языка, а во многих появившихся на карте мира государствах он стал целенаправленно вытесняться из всех сфер общения. А какая сложилась ситуация с русским языком в самой России? В.И. Ленин писал в 1913 г., что в царской России «потребности экономического оборота» требуют, чтобы население страны овладевало русским языком. То же происходит и в современной капиталистической России. Гибнут малые языки, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и европейском Севере. Они лишились государственной поддержки, которая была в советское время, и столкнулись с жестокими законами рынка. И языки малых народов вытесняются, прежде всего, именно русским языком: «потребности экономического оборота» действуют.
Но появилось непривычное для нас явление: в Москве и других крупных городах стали заметны люди, не знающие или почти не знающие русский язык. Разумеется, это приезжие, главным образом, из Средней Азии. Как пишет одно из интернет-изданий, в Москве «есть семьи, которые абсолютно не заинтересованы в овладении русским языком… Во Франции почти нет арабов, не говорящих на французском языке. Они не могут себе этого позволить. А у нас таджики, которые метут двор, себе это позволить могут: никто не метет двор так быстро и дешево, как они, и им для этого язык не нужен». А люди, не владеющие языком окружающих, оказываются самыми бесправными и подвергаются нещадной эксплуатации. Никто не знает, сколько точно из них погибло на строительстве «Триумф-паласа» или комплекса «Алые паруса».
И всё-таки основным средством общения на большей части территории России остаётся русский язык. Иногда считают, что он теряет свои позиции по отношению к английскому языку. Пока это ещё не так. Количество граждан РФ, свободно владеющих английским языком, оценивается специалистами в 9% среди всего населения и в 29% среди тех, кто выезжает за рубеж.
Так что русский язык, конечно, не гибнет в смысле его исчезновения и не погибнет в обозримом будущем. Проблема в другом: а каким становится наш родной язык?
Всякие общественные перемены расшатывают языковую норму, приводят к непредсказуемым изменениям в языке. Так было и после 1917 года. Многие тогда жаловались, что комсомольцы говорят не так, как герои Чехова, и даже дикторы на радио ещё в начале 1930-х гг. делали грубейшие ошибки, особенно в ударении. Однако потом обстановка стабилизировалась, и в 1930-е гг. были предприняты меры по ужесточению языковой нормы, особенно в газетах и на радио. Специалисты во главе с замечательным учёным, профессором Дмитрием Николаевичем Ушаковым положили много сил для этого. Словарь под редакцией Ушакова определил норму в употреблении слов, а на радио и позднее на телевидении несколько десятилетий существовала строжайшая система поддержания литературного произношения. И когда нормы установились, стало ясно, что русский литературный язык остался в основе тем же: появились, конечно, новые слова, но фонетика, грамматика и основная лексика сохранились.
То, что в период новых социальных изменений нарушилась языковая норма, само по себе неудивительно. Но это нарушение в период перехода к капитализму пошло иначе, чем это было в 19201930-е годы. Тогда расшатывание нормы происходило стихийно, а власть боролась за нормализацию, за чистоту языка. Теперь же разрушение привычных норм идёт большей частью целенаправленно.
Вот всем, к сожалению, известный русский мат. Подобная лексика существует в любом языке во все времена. Но до недавнего времени и у нас, и во многих других странах считалось, что с ней надо бороться, что её употребление – признак низкой культуры и что она совершенно недопустима в культурных сферах, включая средства массовой информации. Люди, выраставшие в среде, где мат широко встречался, но затем получившие образование, раз и навсегда запрещали себе его употребление. Например, один из героев Великой Отечественной войны генерал армии А.В. Горбатов писал в воспоминаниях, что ещё в юности поклялся не пить, не курить и не сквернословить. И если в 1945 г. он всё же нарушил одно из правил и выпил за Победу, то запрет на ругань выдерживал всю жизнь.
Сейчас всё чаще мы слышим мат и в театре, и в кино, и на телевидении, читаем соответствующие слова в газетах и журналах. Причины этого могут быть разными. У одних это просто распущенность. Но есть и те, кто подводит под это «идейную базу». Вот что писал, вспоминая советское время, один из языковедов «демократического» направления. «Часть российской интеллигенции, осознающая абсурдность каждодневных реалий дурдома, в котором нам всем пришлось обитать, вносила рефлексийно-критическое начало в самоощущение членов социума. Среда обитания все отчетливее представлялась жителям государства в виде вывороченного запредельного мира. Для передачи же этого чувства запредельности бытия необходимы были запредельные же языковые способы выражения. Русский мат как нельзя лучше подходил для осуществления подобных коммуникативно-экспрессивных целей. Сквернословие в эпоху застоя становилось составной частью бытового общения языковых личностей, стоявших на особенно высоких ступенях развития речевой культуры…. Мат отмежевывал диалог от лживого официального пустословия … он уничтожал дух официальной неправды и нравственной несвободы». Написано кудряво, но смысл понятен: мы стоим на «высоких ступенях развития» и презираем «совков», следующих традициям русской литературы. А вот что пишет журналистка «Независимой газеты»:: «Мат в ханжеской стране является кодом свой/чужой и потому необходим». Кто такие «свои» и «чужие», понятно.
Но внедрение мата имеет ещё одну причину. Один французский лингвист в 90-е годы XX века сказал, что полвека назад во Франции любой составитель словаря навеки испортил бы карьеру, если бы включил в него нецензурную лексику, а в наши дни его карьера рухнет, если он её не включит. На Западе, где господствующая культура всё сильнее выдвигает на первый план биологическую сторону человека за счёт социальной и духовной, нецензурные слова стали почётными, и у нас этому стремятся подражать.
И это проявляется не только в мате. Сейчас на Западе снимаются прежние табу, речь становится подчёркнуто разговорной, всего серьёзного и «возвышенного» избегают. После «возвращения в мировую цивилизацию» наши СМИ, особенно электронные, и сфера рекламы начали ускоренно преобразовываться под западным влиянием. Главное – внушить определённый взгляд на мир при помощи языка. Это может быть мат, а может быть обычная фраза, но в недопустимом в советское время контексте. Разбилась фарфоровая статуэтка – вроде бы литературный язык, но «МК» так озаглавил некролог трагически погибшей молодой спортсменки.
И ещё проблема: слова, взятые из американского варианта английского языка. Английский язык сейчас всё более распространяется по миру. И в советское время в молодёжных жаргонах встречались всякие шузера на зиперах, но в письменной речи такое не допускалось. После 1991 г. поток американизмов заполонил наши телеканалы и газеты.
Конечно, любой язык не может обойтись без заимствований. Многие самые обычные для нас слова вроде хлеб, кровать, товар были когда-то заимствованы из соседствующих языков, но это знают только специалисты – этимологи. Не обойтись без заимствований, если речь идёт о новых для нас явлениях других стран, хотя и такие слова у нас сейчас подвёрстываются под американский стандарт: блюда японской кухни, раньше у нас именовавшиеся в соответствии с правилами суси и сасими, вдруг превратились в суши и сашими на американский манер. И во многих языках мира используется политическая и научная лексика древнегреческого и латинского происхождения, понятная без перевода. Русский язык не может обойтись без таких слов, как революция и социализм. Поэтому нельзя всерьёз относиться к требованиям В. Жириновского убрать из русского языка все заимствованные слова.
Но слово слову рознь. Возьмёшь любую буржуазную газету и не понимаешь значительную часть из того, что там сказано. Или понимаешь, но думаешь: а как все это передать по-русски? Вот первая попавшаяся газета – «НГ - антракт» (приложение к «Независимой газете», посвящённое вопросам искусства) за 8 февраля этого года. На четырёх страницах издания находим: дизайн-студия, диммеры, гостевой лаунж, тренды, бренды-стартапы, топ-10, провокационный маркетинг, гэги, ситком, скетчком и прочее, и прочее. Здесь же кастинг, ещё недавно называвшийся пробой. И плюс к этому совсем не переваренное: интернет-портал Dezeen, дизайн-студии Nendo и NOTE, ресторан (в Москве) Claude Monet, компания Wastberg и пр. И целые англо-нижегородские фразы: «Nendo сделала для Swedeze вешалку Ski»; «для рейтинга нужны женщины, и посему мы становимся girl friendly». На какую аудиторию это рассчитано? Только ли на 9% знающих почитаемый журналистами язык? Необязательно. Авторы таких публикаций навязывают читателям свою систему ценностей, «имидж» (тут, пожалуй, американское слово уместно) приобщения к «современной» культуре «глобализации».
Вспоминаются ленинские слова: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?». Но тогда это чаще происходило бессознательно, В.И. Ленин упоминает, что это было свойственно человеку, «недавно научившемуся читать». Теперь же давно научившиеся читать люди целенаправленно меняют русский язык, прежде всего, в печати и на телевидении. И это можно оценивать только одним образом: идёт сознательная порча языка. И великий язык надо защищать.
В.М. Алпатов,
доктор филологических наук